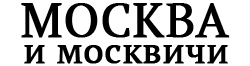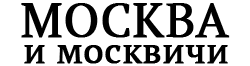Ходынка: коронация в крови
Послепожарный план Москвы (1812—13) будто залит тушью, обозначающей выгоревшие места, и украшен демоном с головой Бонапарта. Демон держит факел, и эта аллегория, будучи эмоциональным обвинением захватчику, совпадает с реальностью, с фактом, что пожар вошел в город вместе с Наполеоном. Точнее — вместе с первыми французскими частями и за сутки до въезда самого «нетерпеливого героя», который, однако, имел выдержку задержаться в кабаке у Дорогомиловской заставы — видимо, давая время подготовить дворец и ликвидировать возможные очаги сопротивления (действительно, по сообщению 19-го бюллетеня «великой армии», авангард был встречен «ружейным залпом» из Кремля, но Мюрат рассеял добровольных защитников пушками).

Момент, когда по улицам потекли неприятельские полки, лучше всех мемуаристов фиксирует студент Славяно-греко-латинской академии: заметив французов с Ивана Великого, прервали едва начатый благовест к вечерне — это был пятый час пополудни.
Не успел полк сержанта Бургоня расположиться на площади перед генерал-губернаторским домом, как упомянутый унтер-офицер гвардейских велитов увидел над купеческим кварталом густой дым и вихрь пламени. Императорская свита, в лице маркиза де Коленкура и графа де Сегюра, также упоминает Китайгородские торговые ряды в качестве первого загоревшегося здания.
Описания последующего распространения пожара в деталях между собой не схожи, что вызвано не только разными точками наблюдения, но и тем, что высшее командование (Сегюр, Коленкур, Наполеон) зачастую не было непосредственным свидетелем событий, а лишь пользовалось донесениями, в которых сокращались или даже утаивались немаловажные подробности. Однако общие для всех источников данные позволяют восстановить основную хронологическую канву.
«Вечером 14 сентября (по новому стилю. — Д.Я.), т.е. накануне вступления Наполеона в Кремль, пожар вспыхнул зараз в нескольких местах: на Солянке, около воспитательного дома, в окрестностях Кузнецкого моста и во многих домах по сю сторону Яузы» — так со слов жены и других, остававшихся в Москве, соотечественников записывает режиссер французской труппы Арманд Домерг, которого городской главнокомандующий граф Ростопчин загодя отправил, еще с четырьмя десятками французов, в Макарьевскую тюрьму.
В течение первой ночи оккупации то там, то здесь огонь продолжал охватывать здания, тушить которые еще никому не приходило в голову. С наступлением дня и прибытием в Кремль недовольного пожарами Наполеона, были приняты некоторые меры, приостановившие кое-где распространение пламени, хотя не переставали возникать и новые очаги. Следующей ночью возгорания участились, а сильный, несколько раз менявшийся ветер сделал невозможной локализацию бедствия, и 16 сентября разбуженного в царском дворце Бонапарта поставили перед ужаснувшим его фактом катастрофы. Пречистенка, Арбат, Поварская и Никитская — все полыхало, занималась Тверская, на востоке пылали Покровка и Немецкая слобода. Достигнув силы урагана, ветер погнал огненные волны за Яузу и в Замоскворечье, превращенное вскоре в «гладкое поле», каким его застал три месяца спустя ростовский городской голова, купец Маракуев.
Кремлевскую твердыню окружила пламенная стена, дворец тушили два раза, и все-таки никакие уговоры не могли заставить императора покинуть вожделенную резиденцию царей — что он, однако, вынужден был, наконец, сделать, возможно, из опасения потерять связь с армией (по предположению Арманда Домерга). С трудом отыскивая проход в горящем городе и рискуя жизнью среди рушащихся домов, Наполеон перебирается в «Петровский замок» — екатерининский подъездной дворец на Петербургском тракте. Войска располагаются вокруг, в английском парке, так что штабы, по воспоминаниям офицера Лабома, ютятся в садовых беседках и декоративных гротах. «Грозный пламень» продолжал бушевать все 17 число и, хотя в ночь на 18-е ветер сменился ливнем, пожар и в этот день, по выражению сержанта Бургоня, «продолжался своим чередом». Только 19-го гигантский костер стал затухать и 20 сентября, в воскресенье, по большей части затих. Тогда же, то есть при первой возможности, Наполеон вернулся в уцелевший Кремль, о чем можно прочитать у Лабома и де Сегюра, хотя Бургонь и де Коленкур датируют возвращение императора 18-м числом.
Основной вопрос, который всегда волновал историков относительно изложенного сюжета — вопрос о виновнике.
Сожгли ли русские Москву?
Да. Но разберемся: какие «русские» и как.
Во-первых, Кутузов, если начинать «с головы». После филевского решения оставить город без боя и приказа отступать с позиции на Воробьевых горах возникала необходимость уничтожения значительного количества военных и продовольственных запасов, склады которых находились как в центре, так и в предместьях. Утопить такое количество всего, как задним числом советовал Бургонь, уже не успевали, хотя частично прибегли и к этому, потому что Сегюр видел разоренных пожаром и голодных москвичей, вытаскивавших из реки мешки с прокисшим зерном. Тем не менее, без поджога обойтись было нельзя, и доверенным лицам ростопчинской администрации поручено было произвести его на намеченных к уничтожению объектах. План начал осуществляться сразу после выхода из Москвы арьергарда Милорадовича— разумеется с ведома фельдмаршала, который не возражал и против эвакуации пожарных команд с «огнегасительным снарядом» (2100 чел. с 96 насосами). Но испепеленная столица была бы ужасна Кутузову как русскому и не выгодна как военачальнику: ей отводилась роль «губки», обязанной «всосать» ударные силы Наполеона и задержать их наступление. То, что сожжение Москвы не предполагалось главнокомандующим, доказывают и оставленные в ней бородинские раненые, порученные (как тогда водилось) человеколюбию неприятеля — их погибло в огне более двух тысяч человек.
Другое дело — граф Ростопчин. Доведенные до фанатизма, его патриотические чувства проявились более в ненависти ко всему французскому, нежели в любви к отечественному и соотечественникам. Поэт князь Вяземский защищал его от обвинения, что только переключая гнев разъяренной толпы с себя самого, он предал ей на растерзание переводчика запрещенных иностранных статеек Верещагина. По этим точным историческим наблюдениям главный мотив поступков московского главнокомандующего заключался в его словах, обращенных к помилованному тогда же французу: «Поди, расскажи твоему царю, как наказывают у нас изменников». Методы в духе «римской доблести», нацеленные скорее на устрашение врага решимостью, чем на нанесение ему реального ущерба, раскрываются и в сожжении Ростопчиным своей усадьбы Вороново. Пожертвовать Москвой, чтобы погубить в ее огне Наполеона — такое намерение соответствовало образу мыслей и действий неистового губернатора. Именно он распорядился о вывозе пожарных насосов (французам оставили одни неисправные), и по его же указанию были освобождены колодники, организованные под началом полицейских агентов для исполнения ростопчин-ских замыслов — видимо более широких, чем предписания Кутузова.
Наконец, москвичи, которых-то и было всего ничего. Действительно, почти все бежали из города накануне и в самый день вступления неприятеля, так что от общей численности оставалось 5—10% (10—20 тыс. чел.). Коленкур отмечает, что на пост главы московской администрации Наполеон не мог найти «более или менее видного русского» — подходил только директор Воспитательного дома генерал-майор Тутолмин, но он был незаменим при своих младенцах и няньках (а также при помещенных у него впоследствии французских и уцелевших русских раненых).
Еще нескольких именитых дворян можно было пересчитать по пальцам — почти у всех московские усадьбы превратились в пепелища, хотя никто из них, как известно, этого не хотел. Вряд ли занимались патриотическим самосожжением и те бежавшие домовладельцы, в чьих печах, по свидетельству де Сегюра, взрывались «коварно положенные гранаты». Бургонь, чуть не ставший жертвой взрыва в чьем-то богатом особняке, видел, как перед тем из него выбежало несколько человек с горящими факелами — ростопчинские диверсанты легко могли раньше французов проникать в брошенные горожанами жилища. Однако нельзя исключить и партизанские подвиги, совершавшиеся по собственной инициативе: даже академическая «История Москвы» (М„ 1954), обвиняющая в пожаре исключительно вражеских захватчиков (очерк М.В. Нечкиной), рассказывает о мастерах Каретного ряда, которые подожгли свой квартал, чтобы наполеоновские маршалы и генералы не получили выбранные и уже надписанные ими экипажи.
В причастности к пожару не заподозришь ни нескольких оставшихся чиновников, ни горстку купцов, ни тех бедняков и калек, которые, за невозможностью эвакуироваться, собрались в церквях, истово молясь о спасении святынь — это картинка из дневника Цезаря Ложье, лейтенанта итальянской гвардии. Кроме того, дворовые, оставленные в некоторых усадьбах для охраны господского имущества, старались, под дождем искр и головешек, отстоять вверенные им владения, причем довольно усердно и иногда сообща с французами — как упомянутые Коленкуром люди князя Голицына.
Но все мемуаристы из наполеоновской армии, от генерала де Сегюра до сержанта Бургоня, а также и сам император, не могли единодушно и целенаправленно врать про русских «каторжников», полицейских унтер-офицеров и будочников, которые распространяли пламя посредством факелов и вымазанных смолою пик: 1) дневники велись «для себя»; 2) воспоминания писались по прошествии времени, то есть уже без политической нужды в фальсификации; 3) авторы находились на разных общественных ступенях и, большей частью, между собой не знались. Правда, в донесениях о диверсантах размах их деятельности, вероятно, преувеличивался, чтобы выдать за нее или ею оправдать мародерские проделки французских солдат, а, судя по рассказу Бургоня, вместе с поджигателями арестовывались и расстреливались неповинные люди.
С другой стороны, по мнению чиновника Андрея Карфачевского (также свидетеля оккупации и пожара), из Москвы не ушли, главным образом, те, кто должен был остаться для партизанской защиты ее от Наполеона. Утром 3(15) сентября в город проник казачий отряд и поджег деревянный Москворецкий мост, да еще с прилегающим к нему Балчугом. Пушкин, написавший про Москву, что «она готовила пожар», не сомневался, таким образом, в подготовке огненной западни для Великой армии. «Русские сами жгли Москву» — так говорил в начале 1820-х годов маленькому Илюше, будущему писателю Селиванову, его отец, и сердце мальчика переполнялось патриотической гордостью: «Славно русские-то сожгли Москву… так и следовало, чтоб она не доставалась врагам!»
Нельзя не предположить весьма вольную интерпретацию ростопчинских предписаний ворами и забулдыгами, призванными московским главнокомандующим искупить вину служением родине. Довольно спорно и строгое их подчинение переодетым полицейским. Едва ли можно исключить то, что единственным стимулом поджогов для многих из них был банальный грабеж. Даже если подвергнуть сомнению свидетельства де Коленкура и де Сегюра о «подонках общества» и отставших русских солдатах, занимавшихся с французами совместными грабежами, то невозможно пренебречь словами Марии Аполлоновны Волковой, родовитой аристократки, писавшей к подруге в июле 1813 года, вскоре по возвращении своем в Москву. По ее утверждению, мародерские «подвиги» неприятеля — «ничто в сравнении с поступками русских войск и крестьян из окрестностей города. Были офицеры, — продолжает она, — разорявшие Москву с помощью солдат; затем, притворяясь ранеными, они продолжали грабить за Москвой». Если эти сведения верны хотя бы на десять процентов, и так недостойно вел себя кто-то из отставших русских солдат, то что же говорить о колодниках?
Перейдем к противнику.
Причастность к пожару французов доказывается столь же неоспоримо, как и наша.
Что до Наполеона, то, разумеется, императора московские бедствия совсем не обрадовали. Если Кутузову пожар хотя бы прикрывал его Тарутинский марш-маневр, то Бонапарт в тактическом отношении терял отдых и дисциплину армии, а в политическом — представал перед Европой не блистательным триумфатором в богатейшей столице, но варваром-разрушителем среди дымящихся развалин. На сей раз этому полководцу, решившему сдержать свою орду простым запрещением грабежей, явно не хватило прозорливости. Более самокритичный, Коленкур посвящает обширный экскурс разнузданности французских войск и называет отсутствие в них порядка главным их врагом: «считалось, что храбрость заменяет все». Посадите солдата рядом с богатой прелестями, обнаженной девушкой — которую он к тому же давно вожделел, воздерживаясь от удовольствий в многодневном походе, — прикажите ему вести себя сдержанно и на минуту отвернитесь. Что произойдет? То же, что с обнаженной, то есть практически оставленной жителями, Москвой: явно или тайно, но желаниям воля дана была тут же и вполне. Хотя полк сержанта Бургоня, вошедший в город одним из первых (вечером 14 сентября), был назначен пикетом, и никому ни под каким предлогом не было велено отлучаться, через полчаса Тверская площадь, которую заняло подразделение, была, по собственному выражению сержанта, «покрыта всякой всячиной, чего только душе угодно» — перечисляя съестные припасы, он в первую очередь упоминает разных сортов вина и водку. «Солдаты, — объясняет Бургонь, — входили в дома на площади, чтобы потребовать еды и питья, но, не находя ни души, сами брали, что им было нужно».
Начинался долгожданный отдых и, одновременно, праздник победителей, на который так рвалась в Москву вся Великая армия. Подобно самому Наполеону, она привыкла к подписанию мира и завершению войны сразу по взятии столицы — Сегюр, например, приводит тот факт, что, когда истекло вытребованное Милорадовичем перемирие, Мюрат очень долго добивался от своих аванпостов возобновления огня по русскому арьергарду: достигнув Москвы, кавалеристы сочли войну законченной. Младшие офицеры, видимо, тем более не справлялись со своими подчиненными или потакали им за значительную долю добычи (Бургонь рассказывает, как, прикрывая мародерскую самоволку товарищей, он затягивал перекличку, и простодушно признается, что не задаром: «мы, унтер-офицеры, всегда взимали в свою пользу по крайней мере двадцать процентов»). Впрочем, попробовали бы они лишить солдат их праздника — возможно, их постигла бы участь того гвардейского офицера, которого пьяный кон-но-артиллерист Савуа бил плашмя саблей (картинка из дневника Анри Бейля, знаменитого писателя Стендаля, посетившего Москву в составе наполеоновского интендантства).
Вспомним, что первыми загорелись Торговые ряды. Товарищи Бургоня тут же обвиняют в этом «мародеров армии». Одновременно и Тутолмин видит «большой грабеж в рядах». Коленкур находится при Наполеоне в Дорогомилове и только из донесений узнает о разорении еще не объятых пламенем рядских лавок солдатами и жителями. Но думается, что, если последние и участвовали в грабеже, то, вероятнее всего, как черви в рыбалке. Отлавливая попадавшихся кое-где перепуганных мужиков, французы превращали их, по выражению де Сегюра, во «вьючных животных», причем заставляли порой, как пишет уже русский мемуарист Петр Кичеев, «переносить тяжести, несоразмерные с силами человеческими». Общим мучениям подвергались и монахи, включая даже настоятелей: раздетый донага архимандрит Николаевского монастыря, прикрывшись рогожкой, нес в Новодевичий монастырь пятипудовый мешок муки. Дело было на второй же день оккупации, 3(15) сентября. Богоявленский монастырь также грабили, казначея били, допрашивая об имуществе, затем вместе с монахами велели тащить сукно и вино к Тверской заставе. Там, что интересно, другие солдаты все у них отняли, а несчастные чернецы, едва освободившись, попались уже третьим мародерам, которые заставили их везти телегу с винами через гряды и вал1. На таких условиях, как видим, и православные иноки принимали участие в грабеже.
Вслед за Торговыми рядами занялось что-то позади губернаторского дома, и Бургонь отправляется в составе патрульного отряда обследовать район. Среди прочих приключений экспедиции описывается посещение большой усадьбы, где французы чуть не погибли от взрыва ядер, подложенных в печь, но где они зато без колебания разделили между собой найденную коллекцию оружия, а значит, могли прихватить и еще какое-нибудь добро, не упомянутое сержантом: Сегюр много пишет о распаленной грабежом солдатской жадности.
Однополчане Бургоня тоже не теряли время. К моменту возвращения патруля (2 часа ночи на 3(15) сентября) их бивуаки походили на «сборище разноплеменных народов мира». «… Солдаты, — детализирует картину Бургонь, — были одеты кто калмыком, кто казаком, кто татарином, персиянином или турком, а другие щеголяли в богатых мехах. Некоторые нарядились в придворные костюмы во французском вкусе...» Таким же «маскарадом», или еще «ярмаркой», штабной офицер Лабом (состоявший при вице-короле Евгении Богарне) изображает и лагерь вокруг Петровского дворца. Превратившиеся в купцов, военные торговали драгоценными вещами и, сидя у костров на шелковых диванах, «ели с фарфоровых тарелок, пили из серебряной посуды, и вообще обладали такими предметами роскоши, которые можно было себе представить только среди очень богатой и комфортабельной обстановки». Последними словами Лабом противоречит своему же утверждению, что все это вытаскивали из подвалов, из-под развалин и пепла. Описываемое добро ушло из барских гостиных и кабинетов, причем, судя по его товарному виду, до прихода «красного петуха»: Коленкур, например, жил в уцелевшем особняке князя Голицына, «разграбленном сверху донизу».
Описанный Бургонем костюмированный праздник был в первую очередь праздником солдатских желудков.
Еще раз перечисляются вынесенные из окрестных домов «лакомства», и перечень их опять начинается со спиртного — вин и ликеров. Далее, чуть ли не через каждые две страницы, говорится об обнаружении всевозможных напитков и их потреблении — пиво, ямайский ром, приготовление пунша, снова разные вина и водка… «Двери лавок и погребов, — отмечает Коленкур, — были взломаны, и отсюда — все эксцессы, все преступления пьяных солдат, не желавших больше слушать своих начальников». Хотя роту Бургоня отрядили пикетом на вторые сутки, наш сержант и два его приятеля, очевидно тоже унтер-офицеры, прихватив себе в сопровождение по солдату, спокойненько отправляются в коллективную самоволку, чтобы «посетить жилища и подвалы русских бояр», а главное — знаменитый Кремль (к тому времени, то есть в ночь на 4(16) сентября — уже резиденцию Наполеона). Внутри Кремля они встречают знакомых из расположившегося там егерского полка. Егеря радушно угощают товарищей «вкусным мясом и превосходными винами». Гости, разжившиеся по дороге вином и вареньем, видимо, тоже не остались в долгу. Дружеская пирушка продолжалась до полудня, до пожара в арсенальной башне, который заставил хозяев подняться по тревоге и оказался, согласно рассказу де Сегюра, непосредственным поводом для решения императора перебраться в Петровский дворец.
Итак, Наполеон запретил грабежи, но они начались тут же по вступлении в Москву его армии и задолго до въезда в город самого императора. Мародерство развернулось одновременно с возникновением пожаров, но задолго до того, как всякий грабеж можно было бы извинить спасением имущества и провианта. Трудно сказать наверняка, кто, например, зажег Торговые ряды — русские поджигатели или французские мародеры, случайно или нарочно, — однако пожары оправдывали грабеж, а вся ответственность за них легко перелагалась на московских полицейских и колодников. Нельзя доказать, сразу или чуть погодя догадался французский солдат использовать эти возможности, только ясно, что в конце концов он воспользовался и той, и другой.
Иллюстрации тому находим в русских источниках. Генерал-майор Тутолмин, который, как пишет Коленкур, по настоянию Наполеона отправил в Петербург письма, снимающие с Великой армии ответственность за пожар, в своих воспоминаниях, напротив, рассказывает, что ему и его подчиненным с большим трудом удалось спасти Воспитательный дом от «французских зажигателей». Оставшийся в Москве отставной генерал-майор Мосолов жалуется в своих записках на французских «тушелыци-ков огня», которые не охраняли, а зажигали ближайшие к его владению купеческие дома — «чтоб лучше грабить» и чтобы его самого «тем огнем выгнать из дому». Некий московский гражданин Захаров, по его собственному свидетельству, видел во время пожара «несчетное число верховых», кидавших «в домы и церкви зажигательные препараты». Статья о пожаре 1812 года в новой энциклопедии «Москва» (М., 1997) приводит сведения о задержанных за поджоги солдатах Великой армии, казненных, во исполнение наполеоновского приказа, наряду с русскими арестованными.
Изложенные факты дают право на два следующих вывода.
При крайне пожароопасной погоде, при возможности случайных загораний от бивачных костров или непогашенных очагов, Москва сгорела все же не сама по себе, но благодаря совместным, интернациональным русско-французским усилиям, зажженная руками рос-топчинских агентов и колодников с одной стороны и наполеоновских мародеров — с другой, а также при умышленном содействии (напр., Ростопчина), попустительстве или недальновидности начальников различных уровней с обеих сторон, включая главнокомандующих. Оккупация и пожар Москвы подточили французскую армию изнутри, положили начало ее моральному разложению, тогда как москвичи, в подавляющем большинстве эвакуировавшиеся, избежали сколько-нибудь заметных нарушений или сумятицы в обычном для них порядке бытия и общественных отношениях.
Вернувшись, все московские жители единодушно ужаснулись опустошению. Все они, спустя совсем немного времени, удивлялись, как быстро жизнь города вошла в привычное русло.
И напротив, тому, как пожар выбил французов из колеи и как преобразило их мародерство, находим два ярких примера у графа де Сегюра. К моменту возвращения Наполеона из Петровского дворца беспорядки в армии возросли настолько, что «некоторые корпуса, терпя всевозможную нужду, были готовы с оружием в руках оспаривать друг у друга остатки Москвы». Когда же неприятельские войска, наконец, вышли из города, то значительная их часть напоминала своим видом уже не «прежних всемирных победителей», а «татарскую орду после удачного нашествия»: военную форму заменила разнообразная, пестрая одежда из московских сундуков, повозки с добычей запруживали дорогу и сильно замедляли движение.
Император взял с собой на память крест с колокольни Ивана Великого, двуглавого орла с Никольской башни и Георгия Победоносца со здания Сената (с крестом, правда, вышла промашка — он, при снятии, сорвался с веревок, и завоевателям достались лишь обломки).
Выступление французских частей из Москвы явилось последним актом ее трагедии, так как на прощание оккупантами был взорван Кремль. Не дождавшийся мира и раздраженный поражением Мюрата под Тарутином, Наполеон мстил Александру за молчание и всем русским за непокорность. Великая армия двинулась на Калугу 7(19) октября во главе со своим разгневанным полководцем. Он шел поразить Кутузова, а рассчитаться с негостеприимной Москвой оставил десятитысячный гарнизон иод командованием маршала Мортье. Трех дней было достаточно, чтобы в нескольких местах заложить большое количество взрывчатки. К 10 (22) октября все было устроено, и около 11 часов вечера последние французы, подпалив фитили, ушли догонять своих по Калужской дороге. Кое-где их саперные ухищрения расстроил дождь, кое-где фитилям не дали догореть москвичи. Тем не менее, примерно между двумя и четырьмя часами ночи Кремль был подорван в пяти местах. Очевидцы писали о шести взрывах: первом, самом сильном, и последовавших, более слабых. Известный мемуарист и знакомец Пушкина Вигель вспоминает, что «целый угол Арсенала, прилегающий к Никольской башне, косообразно был оторван». Ажурную башню над Никольскими воротами ростовский купец Маракуев увидел в декабре 1812 года снятой, «как по черте, по самую икону св. Николая, у которой, между тем, самое стекло осталось цело». Стену вдоль Москвы-реки взорвали в нескольких местах, вместе с Водовзводной, 1-й Безымянной и Петровской башнями. С Боровицкой башни (при взрыве Водовзводной) снесло верх шатра, с Угловой Арсенальной (взрывом Арсенала) — дозорную вышку. От Ивана Великого, кремлевской звонницы, уцелел только столп, который, по впечатлению того же Маракуева, без своих пристроек выглядел «как сирота». Пострадали также Кремлевский дворец и Грановитая палата. Все это предстояло восстановить...палата. Все это предстояло восстановить...